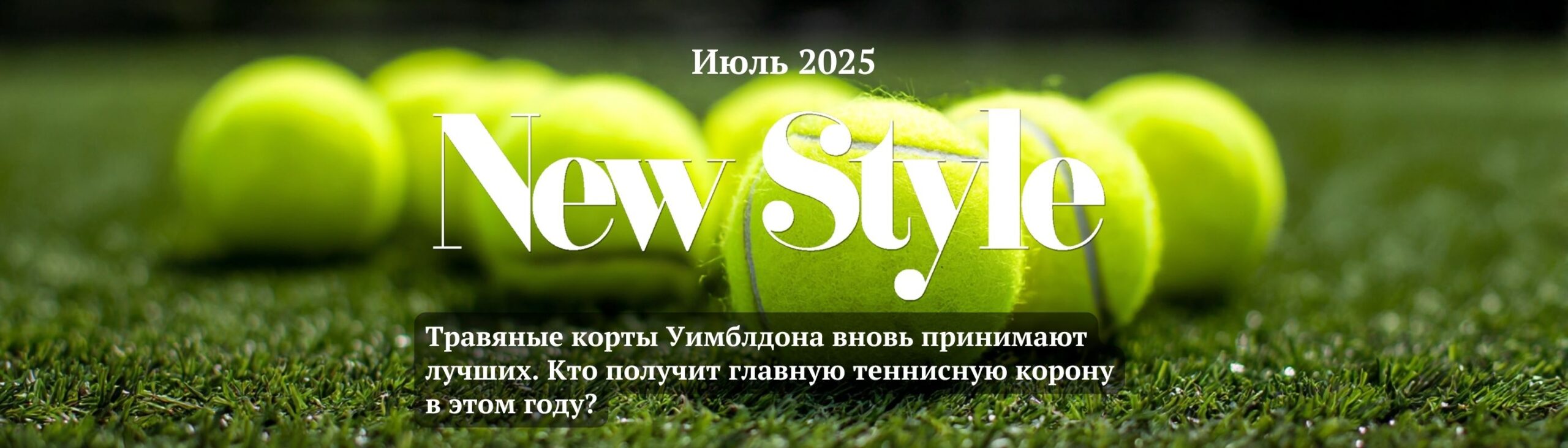Еще раз про любовь

Русское искусство всегда боролось. Будь то литература или живопись, Перов или Достоевский, Высоцкий или Попков. «Мастерюги», по выражению художника Юрия Злотникова, вели людей за собой, как на баррикады.
Откуда мастера черпают свое вдохновение? В тиши кабинета выдуманные сюжеты перекладываются на бумагу, на холст, отливаются в бронзу? Или же художник пропускает все через себя и свой собственный опыт, слегка завуалированный, запечатлевает в романе или на полотне? Да так ли это важно? Вопрос метода, механизм создания произведения для нас все-таки вторичен. Первично, что именно выбирает творческий человек предметом для своего общения с миром. И как по отношению к этому самому предмету себя позиционирует.
Традиционно в русской культуре творец должен был быть гражданином, как минимум, а по максимуму – пророком. Положение пророка, согласитесь, обязывало, поэтому русские писатели и художники выступали одновременно и критиками, и учителями. В недолгую эпоху Серебряного века некоторые художники сбились было на чистое искусство ради искусства: тут тебе и Мережковский со своей эстетской заумью, и Бенуа с дворцовыми декорациями, и Сомов с пасторалями. Но революция, большевики и новое левое искусство быстро все поправили и расставили по местам. Так, по крайней мере, казалось. Левое искусство отмерло почти сразу, а советские строители коммунизма затянули волынку реалистического искусства аж на пятьдесят лет с гаком. Но и при этом доминирующем заунывном лейтмотиве искусство в России продолжало бороться – с собой, с властью, с идеологией. Боролись нон-комформисты: Рабин, Немухин, Целков. Боролись диссиденты: Аксенов и Войнович, – боролись те, кто жил на роскошных переделкинских дачах, и те, кто в знак протеста уехал в свои глухие деревни, как Распутин и Белов. Боролись многие. То ли свойство национального характера, то ли пререквизит настоящего художника.

И вот Советского Союза не стало. Пришли капитализм и деньги. Бороться стало не с кем. Или так казалось. Вроде бы и при Достоевском был зарождающийся капитализм, а уж при Чехове – и подавно. С той лишь разницей, что в те наивные времена богатым было быть стыдно, слабых обижать не полагалось, убивать старушек и подавно, но, главное, герои любили, и силой их любви и их поступками в контексте этой любви измерялось человеческое достоинство. Их самих и всего общества. И «Анна Каренина», и «Воскресение», и «Преступление и наказание», и Бунин, и Чехов, и Булгаков… Все это о любви.
А теперь скажите, когда последний раз вы читали современную книгу, где герой любит? Где переживает унижение и великую страсть? Где страшится первого соития, готов идти на преступление или подвиг ради своей любви? Или русские перестали любить – хотя в это верится с трудом, – или писателей и художников вообще «эта тема» перестала интересовать. Но почему?

Трахнуться с олигархом или с кинорежиссером, то есть продать себя повыгоднее и подороже есть одна самая распространенная сейчас тема. Получить максимум удовольствия от наибольшего количества сексуальных связей. Вот вторая. Могут быть варианты, как то: трахаюсь не просто так, а пока не найду достойного кандидата в супруга(и); трахаюсь, чтобы познать себя; трахаюсь, потому что ищу настоящую любовь, но не нахожу, поскольку все кругом козлы и хотят только тебя использовать. И так до бесконечности. При любом наборе качества у всех современных героев обоих полов неизбежно отсутствует одно: чувство собственного достоинства.
Вот интересно, и раньше так было? И художники типа Толстого придумывали своих героев ради пророческих целей? Ведь надо было вести за собой общество, «милость к падшим призывать», вдохновлять, наставлять. Или раньше действительно любили, а сегодня действительно перестали? И не о ком писать? И некого рисовать? Одни кругом духовные экскременты, от которых получаются каляки-маляки и всякая прочая галиматья в глянцевых обложках, а также многосерийные сериалы про маньяков, Распутина, Екатерину Великую и о тех самых художниках, преимущественно Оттепели, которые про себя такие вот откровения и выдают?! Не знаю, как вы, но я о таких вот «творческих личностях» читать не хочу, равно как и смотреть на них. Я хочу о любви. О любви настоящей, всеобъемлющей, объясняющей и благословляющей мир. О той, про которую будут читать и через сто лет. Потому что этих нелюбящих и предающих скоро забудут. Навсегда.